Как Россия проходит пандемический кризис, обсудили президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН Александр Широв и директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
По материалам программы «Дом Э», телеканал «Общественное телевидение России», 22 мая 2021 года
Бодрунов: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я предлагаю поговорить о том, как Россия проходит кризис: хорошо, лучше других, хуже других? Что из себя сегодня представляет экономика России в ситуации коронакризиса. Мы так или иначе до коронакризиса рассуждали о том, каким образом нам перестроить экономику, какие реформы проводить, чтобы увеличить темпы экономического роста, повысить благосостояние людей, и вдруг кризис сломал всё, и не только нам, а всем экономистам, управленцам, которые занимались теми же проблемами в своих странах. Сегодня многие в растерянности пытаются оценить последствия, выработать какие-то меры противодействия. Мой первый вопрос, как мы сегодня смотримся в мире – лучше или хуже – с точки зрения влияния на нашу экономику пандемических проблем?
Широв: Конечно, у ответа на вопрос о том, как мы проходим кризис, есть несколько граней. Одна из них — чисто экономическая, и если мы посмотрим на статистику, то увидим, что вроде бы все не так плохо…
Бодрунов: Вы имеете в виду нашу официальную статистику Росстата.
Широв: И официальную статистику, и если мы посмотрим микроданные, чисто экономические показатели, увидим, что они неплохие: мы потеряли 3,1% ВВП в 2020 году, мы увидели снижение реально располагаемых доходов населения примерно на 8%, мы увидели снижение уровня промышленного производства. Но всё это было чуть лучше, чем у большинства крупных экономик мира, как развивающихся, так и развитых.
Бодрунов: Да, вы очень важную вещь сказали: большинства крупных экономик мира…
Широв: Да, потому что мы должны себя сравнивать с мировыми лидерами, потому что Россия – всё-таки пятая экономика мира по итогам 2020 года. Но у нас есть очень серьезные негативные последствия этого кризиса – это, конечно, в первую очередь повышенная смертность. Мы потеряли дополнительно по сравнению с уровнем 2019 года 320 тысяч человек. И вообще, в результате пандемии наши потери составят совокупно за 2020 – 2021 годы около миллиона человек, а это уже макроэкономически значимая потеря населения. Я уже молчу о личных трагедиях тех семей, в которых произошли эти потери.
Бодрунов: Я думаю, цифры, которые вы называете, отражают официальную статистику структур, подсчитывающих расходы и доходы, в том числе Росстата. На этих данных базируются прогнозы, базируются какие-то меры, направление удара, решается, куда направлять усилия и что нужно в первую очередь делать. Но есть анализ и других специалистов, которые, может быть, опираясь на другие данные, дают другую картину. В частности, в одном из интервью академик Аганбегян говорил о том, что если мы посмотрим на официальную статистику за 2020 год, то мы просели на 3,1%, среднемировая цифра – 3,5%, в США – примерно те же самые 3,5%. Однако, по его мнению, надо было смотреть именно на период кризиса, а кризис у нас начался со второго квартала. Таким образом, в пересчёте на год мы потеряли больше 4%. А это уже хуже, чем среднемировая статистика. Мне кажется, что эти цифры так или иначе отражают один главный тренд – мы ухудшили свои позиции.
Уважаемый Георгий Владимирович, скажите, какие-то ещё вы видите вещи, которые структурно повлияли на нашу экономику или ухудшили наш потенциал в экономическом развитии?
Остапкович: Я считаю, что во многом, помимо, конечно, государственной помощи, которая оказывалась своевременно, по-разному можно оценивать, достаточно или недостаточно, но примерно 4,5 – 5% ВВП составила государственная помощь людям и экономике. Конечно, в других странах она была выше. Но с точки зрения структуры, почему нам удалось получить минус 3%, а не минус 5% и не минус 6% (кстати, в эпицентре кризиса в марте-апреле прошлого года все прогнозисты говорили, что от 5 до 8% будет просадка).
Бодрунов: Я слышал прогнозы до 12%…
Остапкович: Были и до 12%, да. МВФ давал 8%, а МВФ – это очень позитивный прогнозист. Кто пострадал больше всего во всём мире? Сфера услуг…
Бодрунов: Да, в первую очередь, конечно.
Остапкович: Обнулился весь гостинично-ресторанный бизнес, развлекательные услуги, упали туризм, авиация, судоходство, транспортные услуги. А у нас доля услуг меньше, чем в других странах. У нас всё-таки экономикообразующая отрасль – это промышленность.
Бодрунов: Георгий Владимирович, я Вас поддержу и немножко перебью. Мы неоднократно в Вольном экономическом обществе России говорили, что необходимо сохранять промышленность, необходимо сохранять индустриальную направленность нашей экономики, что это становой хребет устойчивости нашей экономики. И пандемия действительно это подтвердила в какой-то мере.
Остапкович: Да, я согласен с Вами, но всё-таки это вопрос диалектический, потому что для XX века действительно материальное производство – основа, а в XXI веке…
Бодрунов: Смотря, что считать производством…
Остапкович: Я исхожу из ВВП…
Бодрунов: Понятно, ну, хорошо.
Остапкович: Поэтому я считаю, что и ВВП в XXI веке – анахронизм, а не показатель.
Бодрунов: Тут я с Вами соглашусь, конечно.
Остапкович: Больше всего пострадал частный бизнес, потому что у него слабая финансовая антикризисная подушка, они не поддерживаются государством. У нас, по оценкам ФАС, 70% добавленной стоимости создают государственные предприятия, хотя я считаю, что это завышено, пусть 60%. Но всё равно у нас малый бизнес в структуре ВВП – 21,5%, во всех странах – это 50%, а то и 60%. Значит, мы понесли меньшие потери. Именно малый и микробизнес пострадали больше всего. У нас всё-таки преимущественно крупный бизнес формирует основной экономический тренд, хорошо это или плохо.
Бодрунов: Во-первых, это государственные, во-вторых, проще удержаться на плаву, потому что, знаете, когда шторм, то маленькие лодки тонут быстрее гораздо, чем крупные.
Остапкович: Крупное предприятие всё равно аффилировано косвенно с государством, оно получает госзаказ фактически. И еще один фактор, на него не очень обращают внимание, но, я считаю, он существенно сказался на замедлении темпа. Всё-таки наша экономика не очень встроена в создание мировых цепочек добавленной стоимости. Ведь во всём мире, условно, немцы делают «Мерседес», но все эти детали идут и из Польши, и из Нидерландов… А в период пандемии, когда были разрушены трансграничные передвижения товаров и людей, это принесло большой вред, то есть разорвались цепочки поставок. А у нас только сырьевая отрасль встроена. И 80-82% экспорта – это сырьё.
Бодрунов: Вы проанализировали очень чётко те факторы, которые позволили нам лучше перенести, чем другим странам, проблемы пандемии, но я бы добавил ещё, наверное, что эти вещи анализировались и в правительстве, анализировались экспертами. И были приняты определённые меры. Александр Александрович, какие были меры государственной поддержки в малом бизнесе, малоимущим семьям и так далее.
Широв: В течение длительного периода времени говорили о том, что государственная контрциклическая политика в России, скорее всего, будет неэффективной. Прошлый год доказал, что это не так. На самом деле мы увидели, что при всех факторах, которые формируют ВВП со стороны спроса, вклад государства составил примерно 0,7%, что довольно много. Это наиболее существенный показатель за последние 10 лет. Это с одной стороны. С другой стороны, было показано, что меры правительства, направленные на поддержку уровня жизни населения, являются эффективными с точки зрения того, что население себя ведёт совершенно рационально. То есть микроданные Сбербанка, ВТБ, Тинькофф Банка показывают, как люди тратили деньги. Например, пособия на детей, которые получили все семьи с детьми до 16 лет – по сути это массовая раздача социальной помощи – и это очень сильно поддержало российский ритейл и российских производителей…
Бодрунов: Конечно, куда понесли деньги? Понесли в ритейл.
Широв: Причём, важно, на что были потрачены эти деньги. В основном, это обустройство жилья, то есть товары для ремонта, мебель, бытовая техника. Эти меры были эффективными, они поддержали экономику.
Бодрунов: Больше того, многие из этих позиций, на которые тратили деньги, российского производства.
Широв: Является ли поддержка потребительского спроса в текущих российских условиях вещью, которая разбалансирует экономику, создаёт проблемы в финансовой области, или, наоборот, это поддержит экономику? По-моему, ответ однозначный.
Бодрунов: Я тоже считаю, меры, которые были приняты, очень чётко и точечно сработали. Во-первых, они поддержали малоимущие семьи в первую очередь – для них каждая копейка на счету. Во-вторых, было понятно, куда это будет потрачено – пойдёт в ритейл, а ритейл – это наши рабочие места в торговле, это транспорт, это прочие обслуживающие сектора, подсектора. И это заказ на наши же предприятия, рабочие которых тоже получают заработную плату, и так далее.
Широв: Следующая история – строительство. С одной стороны, в период локдауна не был закрыт строительный сектор, продолжались крупные строительные проекты в области инфраструктуры, прежде всего Восточный полигон. С другой стороны, была введена программа льготной ипотеки. Это поддержало сектор и производственного, и непроизводственного строительства. Мы увидели рост объёма строительных работ в период кризиса, что вообще уникально для нашей страны…
Бодрунов: Потрясающе на самом деле…
Широв: Но, конечно, например, та же ипотека упирается в низкий уровень доходов нашего населения. Понятно, что те, у кого средства были, в это сыграли, а вот для менее обеспеченных слоёв населения – это большой вопрос. Когда мы говорим о том, почему у нашей экономики спад был меньше, чем у мировой, есть ещё очень важный фактор – это политика локдауна. В нашей экономике, как мы уже сказали, строительство было закрыто со льготами в период карантинных ограничений. Туда же относится сельское хозяйство, военно-промышленный комплекс, крупнейшие сырьевые сектора производства. Это тоже очень сильно помогло. Наконец, в отличие от кризиса 2008-2009 годов влияние этих негативных факторов на финансовый сектор был относительно ограничен, и это позволило значительный объём ресурсов, который во время прошлого кризиса был потрачен на поддержку банковской системы, использовать на поддержку промышленности. По сути, если мы говорим, про поддержку со стороны промышленности, то это очень похоже на то, что было почти 10 лет назад. Это и государственные закупки автомобильной техники, лифтов для модернизации, другие вещи. Это помощь системообразующим предприятиям. И всё это в комплексе сработало. Проблема состоит только в том, что это вызвало некоторую эйфорию: мы очень хорошо прошли кризис, значит, у нас всё замечательно, но, как я сказал, у нас есть большая проблема социального характера – это повышенная смертность, и это действительно тяжёлый удар и по экономике, и по потенциалу экономического роста в ближайшие годы.
Бодрунов: По каким ещё критериям можно было бы судить о том, насколько мы всё-таки успешно преодолеваем кризис? Потому что от того, как мы это понимаем, зависит, как мы должны дальше работать.
Остапкович: Всё-таки главным бенефициаром роста или падения экономики является человек, люди. Поэтому в первую очередь нужно брать и смотреть социальные индикаторы. А экономический смысл жизни человека – это доход и занятость, а не количество тракторов и турбин, танков и ракет, которые считает ВВП. Значит, мы должны смотреть четыре главных показателя. Это реально располагаемые денежные доходы населения, которые у нас просели на 3,5%, по данным Росстата, а 3,5% в абсолютных цифрах означает, что люди недополучили больше 2 трлн рублей по сравнению с 2019 годом. А 2 трлн рублей – это 1,5 товарооборота продовольственных товаров всей розничной торговли. Вы можете себе представить. У нас потребление упало на 8,5%. Следующий важный показатель – неравенство в доходах, так называемый коэффициент Джини, третий – уровень бедности. Как изменится уровень бедности?
Бодрунов: Если в одних и тех же параметрах бедность считать, то…
Широв: То она сократилась довольно серьёзно, вчера были выгружены данные Росстата.
Остапкович: Давайте пока не будем говорить, как она сократилась, официальные данные посмотрим. Это первая оценка, я всегда к ним теоретически подхожу…
Бодрунов: Я думаю, что оценки будут уточняться, но, во всяком случае, не упадёт…
Остапкович: Она не упадёт, и, естественно, резко сократиться не может, если люди недосчитались 2 трлн рублей в год, как она может сократиться? И недосчиталось в основном низкодоходное население. Миллиардеров у нас, наооборот, прибавилось за прошлый год.
Бодрунов: Я думаю, что по количеству миллиардеров, которые прибавились, судить об экономике сложно. Тут надо смотреть всё-таки на условно средний класс и показатели по бедности.
Широв: Всё-таки, если возвращаться к поддержке экономики, которая была в прошлом году, то меры по поддержке низкодоходных групп населения были обозначены в послании президента в январе прошлого года. И они касались как раз низкодоходных групп населения с детьми. И вот, по нашим оценкам, в этой категории в 2020 году рост доходов достигал 30%. И если возвращаться опять к этому замечательному показателю – валовому внутреннему продукту, то я бы смотрел на него с одной точки зрения. Валовой внутренний продукт – это доходы. Если растут наши доходы, то экономика имеет больше возможностей. Это не турбины, это не трактора, это не тонны стали. Это доходы, это прибыль, это налоги, это зарплаты. Зарплаты у нас составляют почти 50% нашего ВВП. И потребление домашних хозяйств, соответственно. И если наш ВВП снижается, если снижаются доходы, то ясно, что прежде всего страдает уровень и качество жизни населения.
Остапкович: Это сомнительный тезис, конечно. За последние 7 лет у нас растёт ВВП, пускай маленькими темпами…
Бодрунов: Но при этом снижаются реальные доходы населения.
Остапкович: И 7 лет у нас падают реальные располагаемые денежные доходы. То есть прямой корреляции нет.
Широв: Конечно, есть.
Остапкович: Я считаю, что ВВП вообще не показывает ни уровень, ни качество жизни. Это чисто материальный показатель, он лучший, человечество ничего лучше не придумало.
Широв: Ещё раз, ВВП считает доходы…
Бодрунов: У нас классический треугольник. Истина, на мой взгляд, находится посередине. С одной стороны, ВВП нельзя сбрасывать со счетов, потому что он многие вещи позволяет всё-таки анализировать, и другого, к сожалению, универсального показателя пока нет, хотя проблемы у ВВП, как показателя, известны всем нам. И судить о действительном благосостоянии людей только по ВВП было бы большим заблуждением. Я всегда говорил, что необходимо смотреть структуру ВВП, структуру расходов, доходов, смотреть, какие показатели у нас дают этот ВВП. Можно переливать из пустого в порожнее и платить за это деньги, и ВВП будет расти.
Широв: Проще сказать следующим образом: если экономика доходы не продуцирует, то нечего перераспределять. И тогда уже говорить и об уровне жизни, в принципе, невозможно.
Бодрунов: Я бы сказал, вот это более точно.
Остапкович: Главное, чтобы эти доходы имели мультипликативный эффект для людей.
Бодрунов: В кризис, я вижу, жить более-менее можно, но развиваться, а это самое главное, невозможно.
Остапкович: Как раз я хотел сказать, что рост экономики и развитие экономики – это два разных явления.
Бодрунов: Да, две разные вещи.
Остапкович: Можно расти на 4%, и будут падать доходы у вас, и не будет развиваться человеческий капитал. Можно стоять на нулях или на 2%, как в Швейцарии, и у вас будут и потребление, и доходы расти. Нужны вложения в человеческий капитал, а не прямые какие-то огромные вложения государства в реальный сектор. Частный сектор сам создаст экономику. Дайте предпринимательский климат, дайте людям свободу собственности, свободу получения дохода, свободу распределения этого дохода, и поднимут они экономику. При всём уважении к правительству, к Минэкономики, к Центральному банку, они не сеют, не пашут, не строят, не обучают. То есть надо институционально помочь, создать предпринимательский климат, чтобы предприниматели создавали доходы. Они более мотивированы, чем государство, они рискуют собственностью, а не своей зарплатой.
Широв: Тут всегда можно вспомнить то, что говорил академик Ивантер в своё время: «Безусловно, частный бизнес более эффективен, но если бы он был абсолютно эффективен, то в мире бы не было банкротств». И, конечно, ещё раз, основа развития нашей экономики – это частная инициатива, тут вообще никаких вопросов нет. Вопрос – что заставит частного предпринимателя вложить деньги в экономику, которая у нас сейчас за окном? На мой взгляд, как опять же говорил академик Ивантер, в стоящую на месте экономику частные инвестиции не идут. Мы за последние 7 лет стали менее интересны, как для наших внутренних инвесторов, так и прежде всего для международных инвесторов. Наш автомобильный рынок сократился в два раза, мы видим, как сокращается рынок бытовой техники и так далее. То есть версия про то, что какими-то институциональными мерами, какими-то мерами по освобождению предпринимательства можно добиться резкого роста уровня инвестиционной активности нашей экономики, на мой взгляд, плоха. Понятно, что это нужно всё делать, но добиться результата только за счёт этих мер невозможно.
Бодрунов: Коллеги, я вижу две точки зрения. На мой взгляд, истина лежит посередине, потому что без институциональных преобразований, без реформ, без поддержки продвижения вперёд не будет. С другой стороны, бизнес должен жить надеждой, поэтому институциональные реформы должны быть направлены на оживление надежды. А для этого бизнесу нужно видеть, что, с одной стороны, есть институциональная поддержка, с другой стороны, есть проекты, государственные планы, государственные программы. Вот эта надежда создаётся не разово по щелчку пальцев. Это большая работа для всех: и государства, и общества, и экономистов в том числе. Уважаемые коллеги, я благодарю Вас за то, что вы сегодня пришли побеседовать на эту очень важную сегодня для нашего общества, для нашего государства, для нашего народа тему.







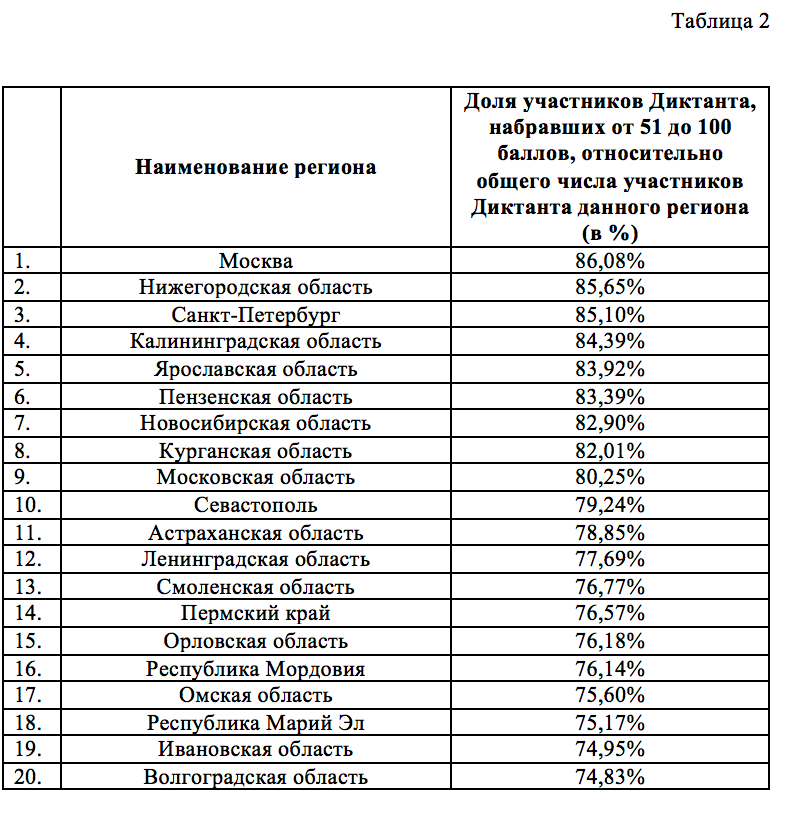
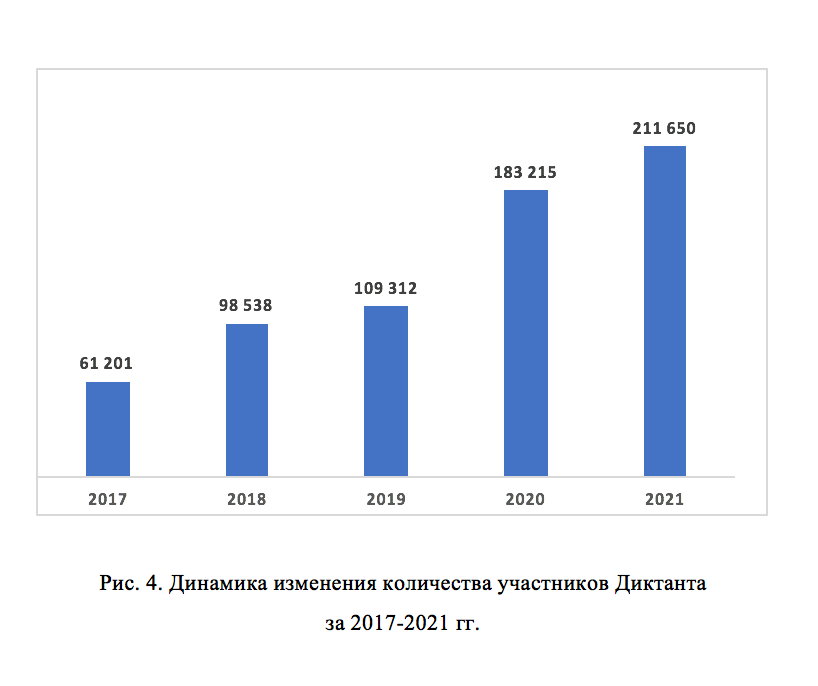
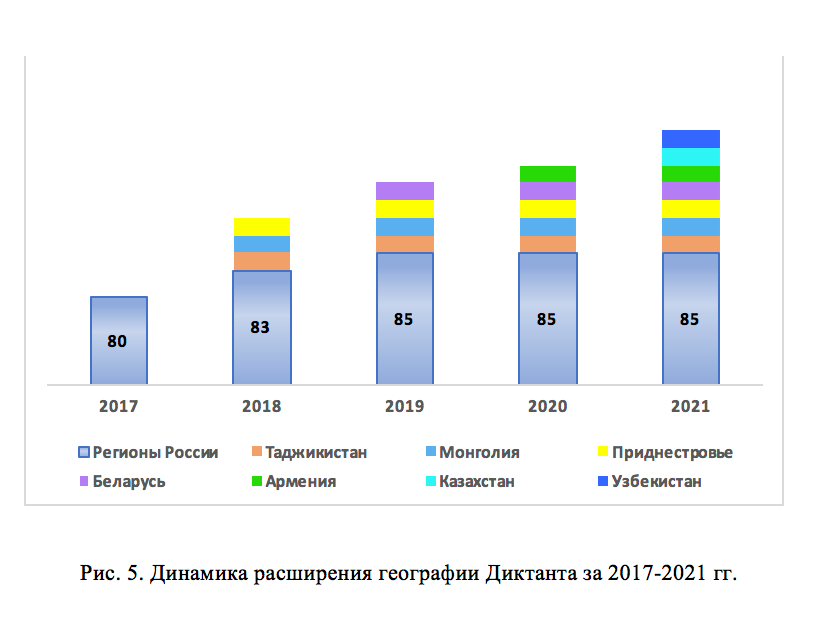
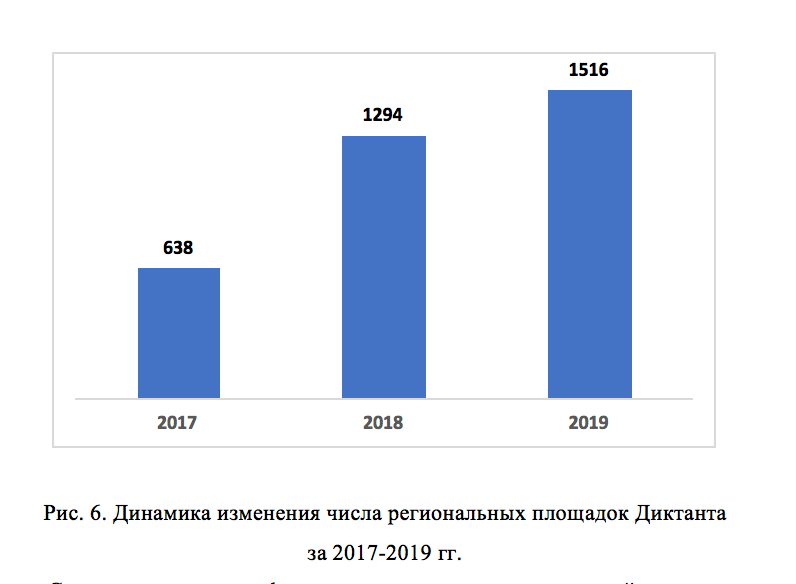



 Сергей Глазьев,
Сергей Глазьев,
 Сергей Рябухин,
Сергей Рябухин,


 Андрей Чернявский,
Андрей Чернявский,
 Александр Некипелов,
Александр Некипелов,