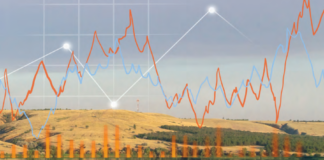Андрей Каприн,
генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава, директор Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена, главный онколог Минздрава, академик РАН

Рак наступает по всему миру. Когда мы и Президент говорим об увеличении продолжительности жизни до 78 лет и больше, то, избавляясь от других причин смерти, мы должны понимать, как нам укрепить онкологическую службу. Потому что, к сожалению, приток пациентов будет большой, и нам потребуются совершенно другие мощности для того, чтобы встретить этого грозного соперника. Так получается, что чем дольше живут люди, тем больше у них есть шанс дожить до своего рака. После 65 лет вероятность заболеть этим грозным заболеванием повышается на 10% каждое десятилетие. Тут нет никакой защиты. Этим заболеванием болеют многие. Поэтому нам нужно готовить маневр, чтобы защититься. Причем если раньше мы говорили больше о пожилых людях, то сейчас это люди трудоспособного возраста: юноши и мужчины 16–60 лет, девушки и женщины 15–55 лет.
Еще до пандемии, выступая перед Федеральным Собранием, в 2018 году Президент России затронул тему борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы получили и финансовую поддержку, и перевооружение регионов. Нам поставили достаточно жесткие индикаторы выполнения программы: 185 случаев смерти от новообразований на 100 тысяч населения, причем мы считаем по грубому показателю, за рубежом — по стандартизированному.
В России в 2022 году выявлено почти 625 тысяч случаев. У нас было большое снижение в 2020 году по понятным причинам, потому что чем выше доля обследованных, тем выявляемость выше. Например, мы не можем утверждать, что в некоторых странах Европы 600 человек на 100 000, а у нас — 428. Извините за вульгаризм, у нас 200 необследованных на 100 000 человек где-то гуляют, которые, конечно, придут с продвинутыми стадиями. А продвинутая стадия — это комбинированное, комплексное лечение. В ковидный год мы необследованных потеряли, и сейчас понимаем, что через 2–3 года, как раз где-то к 2024 году, получим увеличение показателей по продвинутым стадиям.
Онкологическая служба России сама по себе затратная, разбросанная, у нас очень сложная география. Мы понимаем, что есть Красноярский край, а есть небольшие регионы Центрального Федерального округа с совершенно другой доставкой препаратов. В связи с этим было придумано движение по центрам онкологической амбулаторной помощи, потому что до этого у нас были очень плохие первичные онкологические кабинеты, где ничего нельзя было сделать. Они тоже нуждаются в определенном укреплении, поскольку мы рассчитываем, что у нас будет приличная замена наших технологий койкозамещающей технологией, которая, конечно, дешевле.
К перспективным направлениям развития онкологии нужно отнести ядерную медицину, которая была у нас немножечко в загоне, а также телемедицинские технологии. Мы не ожидали, что они так выстрелят во время ковида. Если до ковида мы начинали где-то с 400 консультаций с нашими региональными диспансерами, то сейчас их уже 16 000 в год. Должна быть создана отдельная служба с отдельным финансированием, потому что нагрузка на врачей, конечно, колоссальная. Если мы хотим, чтобы в регионах нормально лечили с помощью поддерживающих консилиумов, то это будет затратно.
Нельзя не сказать о раннем выявлении. Раннее выявление — это совершенно революционные технологии и методы, которые тоже не понятно, как создавать. У нас, как и во всех странах есть дефицит первичного звена, но зато там есть и технологии, которых мы ждем от специалистов. Например, информационная поддержка для того, чтобы с учетом нашей ментальности в самых отдаленных регионах с помощью регионо-специфического подхода люди шли на диспансеризацию, в которой есть скрининг, ранее обследование. Сейчас очень сложно наших будущих пациентов, пока еще обследующихся, пустить по этому пути. Мы ищем разные подходы. И здесь, например, интересна работа, которую мы ведем с Оксаной Михайловной Драпкиной: делаем маммографию методом который может быть экономически выгоден, выявления, есть ли кальцинаты в крупных сосудах или нет, потому что при маммографии в поле зрения попадает грудная клетка с дугой аорты и сердечными сосудами. Правда, пока такие разработки, к сожалению, не очень финансируются.
При этом в мире все больше и больше говорят о персонифицированной медицине. Персонифицированная медицина — это важно, нужно, но дорого. Слава Богу, в последние два года нам разрешили проводить назначение многих препаратов вне инструкции, когда мы видим индивидуальную чувствительность организма, когда он прошел все циклы сложного лечения, а опухоль не реагирует. Это связано с геномными исследованиями, а они непростые, представляют собой отдельное направление, и индивидуализация таких пациентов, при том, что мы двигаемся по этому пути, — очень затратная для страны история. В то же время персонифицированная стратегия будет независимым прогностическим фактором лучших исходов. Конечно же, мы сами хотели бы, наверное, чтобы к нашему заболеванию относились индивидуально, несмотря на наличие клинических рекомендаций. Клинические рекомендации — это хорошо, но есть группа пациентов с редкими, множественными опухолями, которые требуют другого подхода. Опять же, нужно создавать такие службы. А результат метаанализа на 32 000 пациентов — почти 200 — ему можно верить.
Сейчас создаются разные системы генетического подхода. Но если мы будем пользоваться иностранными реактивами и иностранными приборами, для нас это будет очень дорого. Мы попытались в нашем центре создать систему, когда генетическая информация превращается в знание, имеющее практическую ценность. Но это надо как-то тиражировать в регионы, потому что качество лечения в регионах должно соответствовать среднему уровню. NGS-панели (самые полные генетические анализы. — ред.) также вносят свой вклад и в совершенствование персонализированного лечения. Это тоже очень затратная тема, потому что реактивы в нашей стране, к сожалению, пока не выпускаются, да и приборы типа секвенатора Illumina мы тоже пока не делаем. Все это требует, конечно, больших экономических затрат.
На ежегодной конференции Американской ассоциации клинических онкологов (АSCО) обсуждаются новые протоколы, которые собираются по всему миру. И это удивительные протоколы, говорящие о том, что комбинированное и комплексное лечение препаратами является по некоторым локализациям стопроцентной бесхирургической альтернативой фактически с полной редукцией опухоли. Важная тема? Очень. Надо разрабатывать? Да, очень надо. Для этого нужны сильные фундаментальные исследования, а это тоже — очень затратная тема. Сейчас мы с академиком Гинзбургом работаем над созданием, например, внутрипузырной вакцины на основе БЦЖ-вакцины. Вы знаете, БЦЖ — это противотуберкулезная вакцина, которая адаптирована для мочевого пузыря, а вероятность прогрессирования рака мочевого пузыря с такой вакциной падает на 27%, что очень прилично, а риск рецидива — на 32%. И сейчас мы уже на этапе выхода на рынок с этой вакциной. При этом нужно сказать, что она будет в 6 раз дешевле, чем мы ее закупали. Да и провезти через границу сейчас БЦЖ-вакцину практически невозможно, поэтому мы и вынуждены были ею заняться.
Еще очень интересная тема — ядерная медицина. Так случилось, что она была до некоторых пор заброшена, и сырье мы продавали за рубеж. Причем путешествие сырья за рубеж обходилось нам очень дорого и возвращалось в виде лекарственных препаратов в 4–5 раз дороже, чем сырье, которое мы продавали. Сейчас мы начали этим заниматься, но у нас пока нет ни одного производства. Только сейчас Росатом начал строить большой завод в Обнинске, находящийся на НИФХИ им. Карпова.
При этом препараты в единичном синтезе мы разрабатываем. Нам разрешено даже в нашей ядерной аптеке, которая создана в центре, это делать. И это очень хорошие препараты. Например, при кастрат-резистентном раке предстательной железы (а это огромная популяция мужчин) позволяет людям жить 5 лет и более с метастазами. Это практически революционный прорыв. И наши американские коллеги посчитали, что если препарат для лечения рака простаты «Лютеций 177» выйдет на рынок, то можно будет заработать 26 млрд долларов. Никто из наших инвесторов не хочет вкладываться в это, потому что это очень долгие деньги и затратная история, которая окупится не скоро. Мы можем синтезировать 11 препаратов, но нет людей, которые возьмут их в производство.
Есть еще одна проблема, с которой мы столкнулись, связанная с разработкой препаратов. Они являются революционными по мировым меркам. Мы способны сами их делать. Но что происходит? Первую и вторую стадию испытаний препарата мы кое-как можем сделать, а вот уже третью, коммерческую, нет возможности. Никто не может заплатить 300–400 млн за эту фазу испытаний. А для министерств это является нецелевыми расходами. Складывается совершенно тупиковая ситуация. Мы, разработав препараты, видим, как нас постепенно обгоняют, то есть у нас препарат готов, но мы не можем вывести его на третью фазу, и производства, которое готово его встретить, тоже нет, и на второй фазе мы останавливаемся. Понятно, что утечка информации есть, и препарат тут же появляется у наших многоуважаемых коллег за рубежом.
Закончу одним тезисом о новых хирургических операциях. Здесь единственная и очень важная проблема в том, что у нас нет ни одного экземпляра эндоскопического, лапароскопического, малоинвазивного оборудования, которое бы мы делали в России.